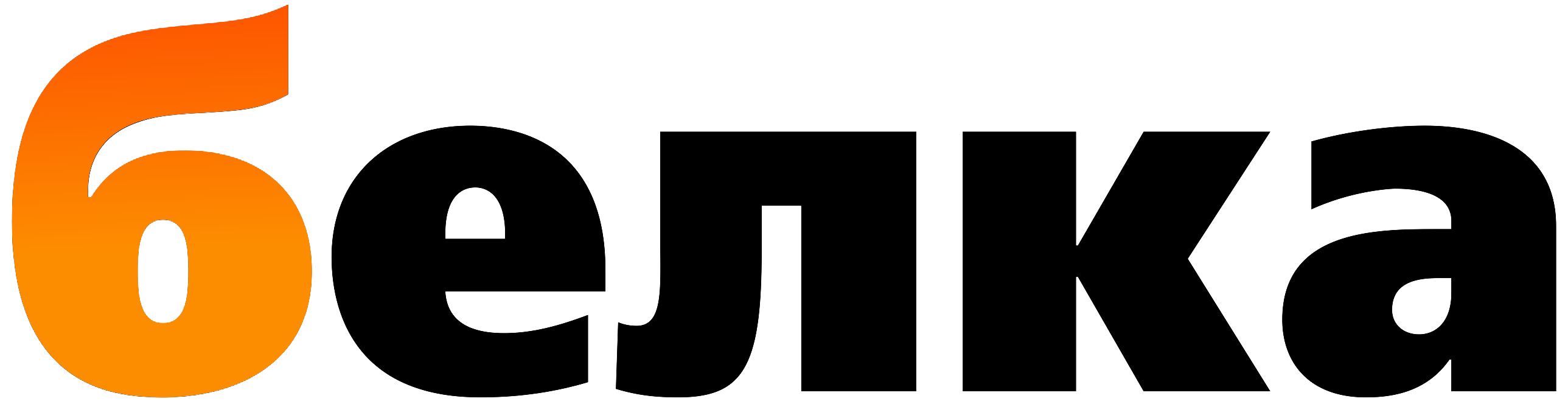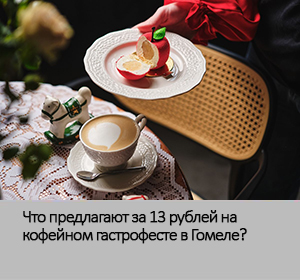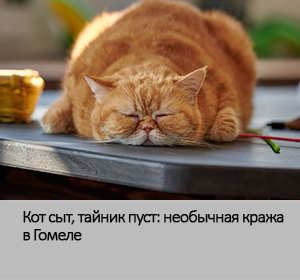Гомельская транспортная прокуратура обнаружила новые свидетельства геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На этот раз историей своей семьи поделился житель деревни Баштан под Гомелем, а записал её заместитель Гомельского транспортного прокурора Владимир Токаревский.

Информация о местоположении населенных пунктов современной территории Республики Беларусь, сожженных фашистскими оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Наполнение продолжается. Фото с сайта Генпрокуратуры.
История Артёма и Александра Башлаковых начинается в Грабовке, где они родились и куда каждый день ездили на работу в колхоз «Красная звезда»: Артём был бригадиром, Александр — бухгалтером. Когда началась война, братьев не стали призывать на фронт, а поручили им эвакуировать из «Красной звезды» крупный рогатый скот — наступали немцы, и его нельзя было оставлять на нужды вермахта.
Овец и свиней бригадир Артём раздал членам колхоза. Чтобы не забыть, кому кого, составил списки и поручил их жене, а сам вместе с братом погнал оставшихся животных на восток. Но дорогу им перегородили немцы: лошадей изъяли сразу, а скотину заставили гнать обратно.
По возвращении в деревню фашисты приказали Артёму назвать подворья, по которым он раздал овец и свиней. Тот хватился списков — а их нет: сожгла жена, завидев приближающихся оккупантов. Пришлось чуть ли не под дулом пистолета восстанавливать списки по памяти, но без толку: жители деревни побили скот на свои нужды, понимая, что не сегодня-завтра его отнимут. Мужчину арестовали, но через две недели внезапно отпустили: в интересах рейха решили сохранить местную инфраструктуру в виде грабовских колхозов, а работать в них, кроме местных жителей, было некому. Артём остался при должности бригадира и проработал там до осени 1942 года.
В октябре в лесах у Грабовки и Баштана поселились партизаны. Какое-то время они питались картошкой с полей, а когда она закончилась, стали приходить по ночам к местным жителям, в том числе братьям Башлаковым. Так было и в последний раз: Артём передал им очередной свёрток с продуктами, завязал в рушник самосад. Свет в доме, разумеется, не зажигал, но кто-то донёс. И когда партизаны вышли за ворота, их ждал немецкий патруль с собакой.
Партизанам удалось сбежать, но наутро в доме Башлаковых уже проходил обыск. Немец обнаружил на свеже-вспаханной земле следы, а рядом — рушник с вышитыми на нём инициалами хозяйки Башлаковой: по всей видимости, его обронили партизаны. Артёма с братом арестовали и увезли на станцию Терюха, где и продержали до самого расстрела.
Недалеко от реки Песошинки, куда жителей Баштана погнала в последний путь расстрельная команда, находилась сторожка лесника. Его дочь видела из окна, как арес-тованные перешли на другой берег и тут же получили пули в живот. Среди них она с ужасом узнала отца и дядю своей знакомой Галины Башлаковой и, встретив её на станции в этот же день, всё рассказала.
Галина бросилась к реке. Возвращавшаяся оттуда расстрельная команда строго-настрого запретила девушке приближаться к месту расстрела, но та не послушалась и проползла туда по рельсам. К моменту, когда она обнаружила убитых, дядя Александр был уже мёртв, а папа Артём успел перекрестить дочь и умер у неё на руках.
Под страхом расстрела фашисты запретили Башлаковым хоронить погибших родственников, как будто прежних издевательств над братьями было недостаточно. К весне их тела растащили дикие животные, останки начали разлагаться.
Вплоть до самого возвращения советских солдат разрешения на захоронение так никто и не выдал, а после участок вдоль железной дороги оказался заминированным. Лишь в марте 1947 года вернувшиеся с фронта сыновья Артёма установили на месте расстрела крест и памятную табличку.
До самой смерти за могилой ухаживала Галина и другие члены семьи Башлаковых, помнили о ней и сотрудники железной дороги. И только сейчас, когда в Баштане не осталось свидетелей тех событий, внук Артёма Сергей Фёдорович решился рассказать эту историю, чтобы гомельчане помнили: когда-то геноцид был страшным, но будничным явлением каждого белорусского двора и подворья, даже такой крохотной деревни, как Баштан.
А если кого беспокоит судьба доносчика на соседей, то ему воздалось по заслугам: в 1943 году хозяйка Башлакова рассказала советским разведчикам об односельчанине, «попившем крови у местного населения» и выступившем-обвинителем на суде против мужа и его брата. Доносчика повязали. Стоило красноармейцам выехать за околицу, как он тут же попытался сбежать, но не вышло: предатель упал, расшиб лоб о корень дерева и умер в лесу в полном одиночестве.
Автор: Светлана Соколова. Фото из открытых источников
Сейчас читают:
Симфонический оркестр и фейерверк. Как Гомель отпразднует День Независимости
Выставка в Гомеле расскажет о судьбах остарбайтеров
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.ДзенБольше интересных новостей - в нашем Telegram